|
ПОЭТ
И ДУША
 Ирина
Дмитриева — один из лучших
современных поэтов Якутии. Родилась
в Якутске, наша землячка. В 1977 г.,
после окончания 8-й средней школы,
уехала в Москву, где закончила
художественно-техническое училище,
отделение чертежников-конструкторов
архитектурного профиля. Ирина
Дмитриева — один из лучших
современных поэтов Якутии. Родилась
в Якутске, наша землячка. В 1977 г.,
после окончания 8-й средней школы,
уехала в Москву, где закончила
художественно-техническое училище,
отделение чертежников-конструкторов
архитектурного профиля.
По этой специальности работала в
одном из московских проектных
институтов, а потом художником-оформителем
на ЗиЛе.
В начале 80-х вернулась в Якутск, как
она подчеркивает — к маме.
Работала в кинотеатре «Лена»
художником-оформителем,
одновременно училась заочно на
историческом отделении ЯГУ.
На какое-то время, в силу жизненных
обстоятельств, вынуждена была
оставить работу и учебу. Затем
занималась разработкой фирменных
знаков и логотипов на дому; закончила,
на дому же, французское отделение
факультета иностранных языков ЯГУ.
Первый сборник стихов «Избранное
мной» вышел в Якутске в 1993 г.
Печатается во многих местных и
российских газетах и журналах.
Сейчас Ирина заканчивает
аспирантуру на кафедре философии
Якутского университета.
— Несколько слов, Ирина, о своем
родном городе, о друзьях.
— Якутск
никогда не рождал во мне
эстетических ассоциаций, но только
ностальгические. Современная
архитектура безлика, или помпезна и
безлика одновременно. А старинные
деревянные дома, пронесшие сквозь
времена своеобразие и
индивидуальность, на глазах
разрушаются. Когда я жила за
пределами родного города, то
вспоминала только то, что было
связано с детством и все покрывалось
маминой любовью ко мне. Мы жили в доме
возле парка, во дворе, ухоженном
своими руками, и взрослые у нас
дружили с детьми, что очень важно.
Даже сейчас, когда я проезжаю мимо
первого своего дома и смотрю на окна
нашей комнаты, щемит сердце.
— А люди, друзья?
— Первые настоящие друзья
появились у меня в Москве. Здесь, в
Якутске, мы жили в тепличных условиях
— не самых подходящих для проверки
дружбы на прочность. Из того времени
у меня остался только один, но
настоящий друг — преподаватель
русского языка и литературы, которая
учила меня в 4-ом классе, Любовь
Вениаминовна Шургина. В Москве же я
встретила таких людей, прикосновение
к которым меня во многом сделало. К
тому же в экзаменах на подлинность
дружбы недостатка не было — жизнь
была тяжела и рискованна. Потом
условия, которые я называю «решетом»,
появились и в Якутске, и в какой-то
момент сквозь это решето просыпалось
все. Так что отношения с людьми мне
пришлось создавать заново. Это было
непросто. Я всегда очень зависела от
людей, но никогда не чувствовала себя
среди них своей. Были талантливые
люди, которые видели меня и понимали,
лучше, чем я сама. Например, моя
однофамилица Татьяна Евгеньевна
Дмитриева, директор кинотеатра.
Царство ей небесное!
— Да, я знал ее, Ирина. Таких
сейчас мало.
— Таких всегда мало. Может быть,
от этого всегдашнее мое ощущение
растерянного ребенка, вынужденного
жить среди взрослых, причем, чужих
взрослых людей! Больно жить чужой
непонятной, неестественной для меня
жизнью — жизнью обыкновенной,
привычной и вполне
удовлетворительной для других. Нет,
не бытовые трудности, не безденежье,
не смена правительства мне мешают.
Мне мешает неправда, которая есть во
всем. Есть во мне самой. Мне мешает
недоброта, неумность,
нечувственность, неестественность,
нетерпимость, нелюбовь.
Но есть другая — видимо,
естественная для меня жизнь.
Естество ее дается мне тоже не очень
просто. Но когда дается! В этой жизни
есть благодать, которая со всем
примиряет, все оправдывает, все
искупает. И это такое счастье,
которым хочется поделиться, и не
можешь. Потому что не можешь глухому
подарить музыку, слепому пейзаж,
безумному — реальный для тебя мир.
Так и живу — на грани блаженства и
пыточной муки. Хорошо живу. По-настоящему.
Люди это чувствуют, поэтому долгий
период полного одиночества давно
прошел. Сейчас на меня «большой спрос».
Люди приходят и уходят. Друзья
остаются. Их не много. Зато, какие это
красивые, светлые люди! Впрочем, я
общаюсь и с теми, о ком точно знаю, что
они не друзья. Для меня человек
никогда не средство, но всегда цель,
причем не такая цель, в которую нужно
попасть, а та, которой стремишься
достигнуть. Есть существа, которые
становятся настолько дороги сердцу,
что боишься потерять их из виду. Но в
любви страха нет, и я пытаюсь не
бояться потерять близких мне и ко мне
людей, а просто учусь быть доступной (даже
в качестве средства) в любую минуту
всем абсолютно. Это такая трудная
школа — православие. Его уроки не
даются легко, а как стихи — потом и
кровью. Попробуй выучи этот урок —
полной открытости перед миром, перед
его злом в том числе! Кант призывал в
качестве цели иметь, прежде всего,
себя. Смысл его понимания был в том,
чтобы достигнуть себя, своего
самобытия. Но я вижу и другой смысл в
этих его словах: стать целью, жить
целью для людей, для всего, что в них
есть — это значит быть открытой для
них абсолютно. Это больно и, кажется,
невыносимо. Но если не научишься жить
так, то нельзя позволять себе слово «любовь».
Все человеческие «вещи» — благо,
добро, любовь, честь, ум — держатся,
как писал ярчайший философ ХХ в.
Мераб Мамардашвили, только на волне
человеческого усилия. Нет таких
специфических усилий — и нет
человека.
— А почему Вы вернулись в Якутск?
— Уезжать из Москвы я не
собиралась. Мне казалось, что жить я
могу только в столице. Но однажды ко
мне в Москву приехала мама, Гертруда
Александровна. Я взглянула на нее и
поняла, что никогда себе не прощу,
если мой самый дорогой человек будет
несчастен, от того, что живет не со
мной. Я поняла, что не важно где жить,
важно — с кем. Надо жить с теми, кто
тебя любит, и кого любишь ты. Решение
было принято мгновенно. Друзья не
могли поверить, что я уезжаю. Я сама,
кажется, тоже. Никто не знает, какой
необыкновенный человек моя мама. Все,
что есть хорошего во мне — это она: ее
любовь, ее терпение, ее мудрость, ее
образованность, ее самоотречение, ее
труды, ее прощение, ее подвижничество.
— А где бы Вы хотели жить?
— Я всегда мечтала жить у моря.
Но, знаете, есть просто не мой мир.
Я, конечно, смогла бы жить где угодно,
но ощущение, что ты живешь в чужом
мире, по мере удаления от наших краев,
усиливается. Там невозможны такие
отношения, которые еще сохранились
здесь.
— Может это особенность Сибири
вообще, такая атмосфера человеческая
и ментальность?
— Наверное, Вы правы. Уже в
Новосибирске это чувствуется. Сибирь
— это уникальность, прежде всего,
человеческая.
— Хорошо, теперь, Ирина, давайте
о поэзии. Как же у Вас это началось?
Когда?
— Стихи я начала писать поздно
— лет в 27. Я стеснялась этого,
скрывала, сопротивлялась внутренне,
как могла. Было в этом что-то такое
противоестественное, как смена пола.
Я ведь, по сути, существо антипоэтическое.
Долго не знала, как к этому
относиться в смысле качества. Многие
считают, что у меня комплекс
неполноценности, что я слишком
строга к себе. Но я Вас уверяю, что это
не так, просто я умею смотреть не
только себе под ноги.
О своих стихах могу сказать только
то, что они вполне грамотны и, если «не
делают чести языку», на котором
написаны, то, по крайней мере, не
оскорбляют его, я на-деюсь. Но в них
нет ничего нового для людей. Потому
что, если бы было, то они уже давно бы
«переросли» пределы нашего
маленького края. Свободные ниши
существуют только на более высоком
уровне. Все, что ниже — примерно
одного порядка и вынуждено тесниться.
Стоит только почитать толстые
журналы, в которых по-прежнему
печатают великолепную поэзию, как
начинаешь понимать свое место. Но и
за него я благодарю Бога.
— Но ведь говорят, что поэт
должен быть честолюбивым, что
способствует успеху, развитию...
Славе.
— Излишние амбиции при
отсутствии на них оснований делают
человека смешным. А росту
творческому способствует осознание
того факта, что тебе есть еще куда
расти. Истинные художники всегда
знают себе точную цену, это рождает в
них скромность. Чем больше у человека
талант, тем острее и понимание его
ограниченности. Это как в науке.
Расширение сферы знания
сопровождается увеличением границ
непознанного. Только дурак уверен,
что знает все. Говорить «мое
творчество», по-моему, вообще
неприлично.
— Мир поэзии. Но что это такое?
— Поэзия? Был период, когда я
считала, что это вредное явление, а
поэты вредные существа, которые учат
людей быть несчастными. Позднее я
поняла, что поэты учат людей даже
боль и страдание переживать красиво,
а значит достойно. Поэзия — это такой
способ жизни, не существования, а
именно бытия — особого
чувствования жизни, это способ замечать
жизнь, видеть ее и слышать ее дыхание,
это способ выхода из ада недожизни
в полноту бытия, в царство бытийности,
где жизнь достигает своей
полноценности и полноты.
Кроме того, я совершенно согласна с
Иосифом Бродским, считавшим поэзию
высшей формой человеческой речи,
наиболее конденсированным способом
передачи человеческого опыта. И
Рильке говорил, что стихи, это не
чувства, а опыт. Опыт жизни. Ее
строительства. Можно ведь построить
сарай, можно безликое, но комфортное
сооружение, а можно храм.
— Роскошный дворец?
— Не роскошный, но совершенный.
Чем великолепнее поэзия, тем быстрее
она приближает нас к совершенству,
которое может быть в простоте, но
непременно в гармонии.
— Кстати, я как-то написал стихи
о Башне. Это моя Башня, и туда я никого
пускать не хочу.
— Был у меня период, когда я
почувствовала свою абсолютную
беззащитность и уязвимость перед
вольным или невольным, но вполне
реальным воздействием на меня
некоторых людей. Я экстрасенсов и
прочая в том же роде спинным мозгом
начала чувствовать и стала этого
бояться, потому что очень тяжело
физически переносила. Но чем больше я
открывалась Богу, тем меньше во мне
оставалось страха, и наступил момент,
когда я поняла, что не хочу
защищаться совсем, даже от зла. Пусть
она будет, если на то воля Божья, но пусть
оно во мне угаснет.
— Это как океан, который
растворяет в себе?
— Интересно, я раньше любила
сравнивать людей с водоемами. Один —
пруд тихий, заросший камышом, другой
— болото, третий — «Голубое» озеро (есть
на Кавказе —малюсенькое в диаметре,
но такое глубокое, что до дна не
достанешь, с чистейшей ледяной водой),
четвертый — океан. Чем больше
человек, говорила я, тем большие
катастрофы он способен вынести и не
погибнуть. Например, Байкал, как
только не мучили, а он остается одним
из самых чистых водоемов, а в лужу
собачка пописает — она уже и
завоняла. С людьми то же.
— Но это хорошо. Вы много
пережили, и многое уяснили для себя.
— Я никогда не считала себя
очень умной, а в молодости и просто
умной (мягко говоря). Но вот некоторые
замечательные и обязательно пожилые
люди находили меня не просто умной, а
умной как-то особенно, во что я никак
не могла поверить. Один мой
преподаватель в училище,
интереснейшая личность,
коллекционер живописи и один из
лучших экскурсоводов Москвы, говорил:
«Ты умная как Сократ, ты все знаешь» и
ставил мне пятерки, не задавая
вопросов. А когда мне было 18 лет, одна
интересная пожилая архитектор из
старинного рода сказала совершенно
серьезно: «Ирочка, Вы такая мудрая,
когда Вам будет 40 лет, Вы сможете
давать бесплатные советы — как жить»,
на что я ей ответила: «Если я
действительно мудрая, я буду давать
платные советы».
— Между прочим, Ира, у Вас есть
дома телефон, и теперь в наше
суперрыночное время можно давать
желающим советы. И кое-что
заработаешь. Деньги нужны.
— Нет-нет... Деньги это
абсолютно не мое. Я никогда не могла
их брать. Даже за работу. Когда я
рисовала товарные знаки, наши
бизнесмены меня часто обманывали, не
потому, что я не могла их намеренья
просчитать. Просто ужасно стыдно
понимать, что на тебе хотят
сэкономить, так стыдно, что проще
позволить им это сделать, чем на эту
тему разговор заводить. Когда-то в
молодости я сказала: «Не люблю и не
умею считать. За это приходится
рассчитываться». К счастью, сегодня
мне о деньгах думать не надо. Не
потому, что у меня их много. А потому,
что хватает.
— Деньги, естественно, не
главное в жизни человека. Это верно. И
вот я хочу, примерно в этом аспекте,
спросить у Вас: что ожидает нас, людей,
в XXI веке? Какие перспективы?
— Я православная христианка (во
всяком случае, стремлюсь быть).
Христианство — единственная религия,
которая объявила о собственном
поражении, хотя и временном. Думать о
том, когда начнется конец света, мне
не интересно. Но то, что происходит в
современном мире, вполне
укладывается в апокалиптическую
перспективу. Все мировые процессы
формируются за океаном, в стране с «угасшей
трансцендентностью». Культ
потребления обуславливает
соответствующую культуру,
которая становится тотальной. Мы
идем по дороге, которая ведет в
никуда и расстраиваемся из-за того,
что за остальными не поспеваем, что
плетемся в конце крысиной очереди,
самозабвенно движущейся на звук
флейты, которая в руках Сатаны. И в
этом смысле страхи потерять свою
самобытность от встречи с
православием кажутся мне смешными.
Скоро мы друг с другом по-английски
будем разговаривать. Да я не против!
Было бы о чем...
— Ну, а как тогда у нас в России?
— А у нас в России с людьми
легче поделиться бедой и горем,
нежели счастьем и радостью.
Подавляющее большинство чувствуют
себя счастливыми или несчастными в
зависимости от того, могут ли надеть,
съесть, выпить, поехать, купить и т.д.
Меньшинство большинства стонет
потому, что не может себе позволить
то, что позволяют другие — везучие.
Ну не могу я быть несчастной от того,
что у меня нет нужной вещи, от того,
что не могу себе разрешить какую-то
еду или отдых не только на Канарах, но
даже на даче — дачи тоже нет!
Простите меня за это. Не самые
тяжелые у нас сейчас времена. И потом,
что времена? Мои времена — во мне.
— А может Ваше творчество,
поэтическое Слово изменить этот
искривленный, грешный мир?
— Нет-нет. Я могу попытаться
изменить себя, но не мир. Св. Серафим
Саровский учил: «Стяжи Дух мирен, и
вокруг тебя тысячи спасутся». И потом,
нельзя спастись в искусстве,
спастись можно только в Церкви.
Культура — это, по мысли
замечательного поэта и философа
Владимира Микушевича, форма
существования человека в падшем мире.
Культура может вести человека к
спасению, но может уводить человека
от спасения. Если мои стихи и
окажутся для кого-то спасительной
соломинкой, так ведь не благодаря
моим заслугам. Поэзия — это дар
речи в момент потери сознания,
говорила Юнна Мориц. Поэзия — это дар
Божий. Дар — это то, что достается
даром. Я могу только удивляться —
почему мне?
— Но большинство народа, как я
думаю, не интересуется религиозными
или какими-то идеями... Интересы
сугубо жизненно-реальные,
материальные всегда у обывателя на
первом месте. Были бы сыты!
— После причастия меня всегда
охватывает такое чувство жалости и
сострадания к людям, которые
добровольно отклоняют от себя
благодать, которые даже не знают, что
это такое. Иногда кажется: заглянув в
душу какого-нибудь человека, увидишь
набитый барахлом шкаф, и
единственный полет, который ему
ведом — это полет моли. Жалко таких
людей. Очень жалко.
Можно верить в то, что Бог есть,
можно верить в то, что Бога нет.
Атеист — существо более упертое и
фанатичное хотя бы потому, что он
неизменно и несомненно уверен в том,
что нет ничего, кроме него и того, что
он видит и способен осознать до
смертного часа, потом — пустота,
небытие, ничто. Для человека, даже
глубоко верующего, до последних
мгновений земной жизни остается
актуальной молитва: «Господи,
помоги моему неверию!» Сомнение
гораздо более свойственно людям веры.
Наверное, потому, что трудно и иногда,
кажется, непосильно прямо смотреть в
глаза Вечности, ощущая себя один на
один с Бесконечным, Непознаваемым,
Всесильным, Всемогущим, не пряча
голову в песок безверия подобно
страусу. «В Евангелии, — писал М.Мамардашвили,
— кроме известных всем заповедей,
которые философы называют обычно
исторической частью Евангелия, есть
лишь одна действительная заповедь.
Отец заповедывал нам вечную жизнь и
свободу. То есть обязал нас к вечной
жизни и свободе. Мы вечны, если живы, и
нужно идти к тому, чего в принципе
нельзя знать. А на это способны
только свободные существа. И само это
движение есть проявление свободы».
Мужества быть свободным,
мужества быть человеку часто и не
хватает.
— Шкаф... это метафора.
— Метафора — тема моей
диссертации или «диагноз». Раньше я
стремилась быть правильно понятой.
Теперь знаю, что это невозможно. То
есть мы понимаем друг друга
настолько, насколько к этому готовы
интеллектуально, духовно, эмоциально,
опытно. А еще имеет значение
способность пересмотреть свои
взгляды, если та перспектива, которая
откроется с чужой точки зрения,
покажется более симпатичной. Но для
этого тоже нужны свобода и смелость
— выйти из крепости своих убеждений,
открыть ворота чужим аргументам,признать
свое поражение или победить.
— Хорошо. И тебе, Ирочка, такой
вот последний, традиционный вопрос:
твои творческие планы на будущее?
— Планов я иметь не могу,
поскольку от меня ничего не зависит.
Второй сборник моих стихов Владимир
Николаевич Федоров отнес в
издательство «Бичик» еще в 1995 г. и
если сборник мыши не съели, то он там
так и лежит.
— В прошлом столетии!
— Да. Третий сборник «Другая»,
в который вошли кроме стихов
переводы с якутского и французского,
и на французский, печатается в
типографии ЯГУ с 1997 г. Сейчас я
подготовила к печати четвертый
сборник. Какие-то перспективы
вырисовываются, затем пропадают.
Сначала я переживала, потому что
стихи неопубликованные в какой-то
момент начали ощутимо давить,
требовать для себя жизни, я
чувствовала себя перед ними
виноватой. Но потом поняла, что после
смерти мои стихи все равно
напечатают. Эта мысль и развеселила,
и успокоила.
— Да, к сожалению, мы так живем...
Плохо. Но все равно, тебя здесь
считают и признают очень серьезным
северным поэтом, и мы, знающие, можем
гордиться тобой, Ирочка. А если
спонсоров поискать?
— Ну, судя по тому, что издатели
не издают мои книжки, а писатели не
принимают меня в свой союз (видимо, не
видят во мне равного им поэта, что
справедливо), не все думают так же,
как Вы, Айсен.
Что касается спонсоров. Я не считаю
возможным удовлетворять свои
литературные амбиции за чужой счет.
Кстати, об амбициях. Я переводила
кусочек сценария знаменитого
французского режиссера Гадара «На
последнем дыхании». Там в одной сцене
молоденькая журналистка задает
великому режиссеру вопрос: «Каковы
ваши самые большие амбиции?» Мэтр
отвечает: «Стать бессмертным и
умереть». Меня потрясла эта фраза. Но
странно, недавно я поняла, что могу
сказать то же самое, если под
бессмертием понимать не суетную и
проходящую рано или поздно мирскую
славу, но бессмертие обретшей вечную
жизнь души.
— Да, поэт и душа... Душа твоя,
Ирочка, действительно бессмертна.
Спасибо, спасибо!
Беседу с поэтом вел
Айсен Дойду.
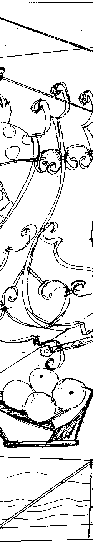 |
|
НЕДОСЛУШАННОЕ
Ю.Башмету
Нет, это жизнь — не музыка у
Шнитке:
слеза, как жемчуг, бусинкой на
нитке,
ткут ожерелье океаны вежд,
так обретая белизну одежд,
душа почти в невыносимой неге,
совсем нагая, кутается в снеге
(его живой озвучивает альт);
кружась, ложатся хлопья на
асфальт
небес; дрожит струна (ей что-то
снится),
как у ребенка спящего ресницы,
и воздух сам сиреневый. Но вдруг
срывают ветры — продолженье
рук,
которых пальцы — продолженье
Бога,
наряд чистейших истин. Как
убога
душа, когда она обнажена, —
еще невеста, а уже жена,
но Женихом отвергнутая. Снова
вхожу в себя, подыскивая слово
для выраженья горних заграниц,
куда не пала — возносилась ниц.
Не пережив последнего аккорда,
душа на суд толпы пугливо-гордо
идет искать тернового венца,
чтобы услышать музыку конца.
|
|
* * *
Как время выражено
странно
В дожде, в мелодии слепой...
Пой, скрипка ангельская, пой!
Всё - в этом звуке «иностранном»...
Вы слышите? Хотите чаю
С вареньем маминым и мной?
Я чашек треснутых земной
Понятный ропот примечаю...
В пространстве слов привычно
ложки
В бокалы бьют - колокола,
Дождя прозрачная скала
Теряет прочность понемножку:
Как будто неба причитанье -
Вздыхают капли семеня...
Здесь время вычли из меня -
Мне счастье это вычитанье. |
|
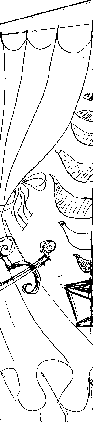 |
|
* * *
Выголуби мне, Господи, душу!
Кто знает, о чем сказала:
о белизны оттенке — голубизне
или о голубе у вокзала,
важно устроившем трапезу
посреди открытого небу зала?
Был, если помните, другой
голубь, вернее, ему подобный:
то ли метафора, то ли символ, для
сознания нищего удобный...
Видел Его один пророк, и не один,
наверное, преподобный.
Мысли — сор, а блестит в нем то,
на что позарится лишь сорока.
Сорок раз: «...помилуй!». Уже
недолго до отведенного грешным
срока.
Сорок дней — время последнего
экзамена (или еще урока?). |
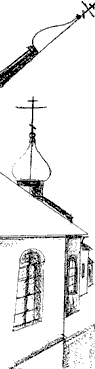
|
* * *
Мой дух не знал ни мира и
ни меры,
Ум смысл алкал, душа искала веры...
Вращеньем злым судьбы веретена
Спасенья нить была обретена.
И как ее сомнением не рвало,
Она вплеталась в утра покрывало:
Как будто тьму распарывал
рассвет,
Или в глаза закапывали свет.
По жизни сон легко не отступает -
По углям звезд застенчиво ступая,
Я мир с высот оглядываю, но
Все вижу так, как старый двор в
окно:
Знаком и чужд до боли и до были...
Была ли я? Меня ли здесь забыли,
Когда вся жизнь до капельки
стекла
Вон там, в ночи у желтого стекла? |
ПОДРАЖАНИЕ
Дождь был нахален, но короток,
как дыхание и стихи. Пелены его
рвались, прорываясь в комнату через
отверстия в рыхлых стенах —
тривиальность архитектуры. Стекла
окон треснуты и запылены. Их число
постоянно, но от него не зависит даже
напор в венах. А на что смотреть!?
Ничего нового, кроме обалдевшего, как
и я, от внутренних перемен неба. Но,
однако, при свете настольной лампы,
шкаф и гости переносятся в
перспективу улицы (декорация
осточертела) — захудалой сцены,
огней ее запредельной рампы. Стихов
ангелы, может быть, и не пишут, но
абсурды Сартра?.. Немеешь от подобной
драматургии. Это вам не Венеция и не
Ницца. Лица чужие, совсем как язык
страны той, с которой ты не имеешь ни
общей судьбы, ни общей беды, ни общей
еды — лебеды, и пицца, согласная на
любой пейзаж, ничего, в сущности, и не
означает, кроме потери вкуса,
воображения, последней свободы воли.
Да какая уж тут свобода, когда горлом
чужое — кипящим чаем, перехватывая
слова — оставшееся от потусторонней
боли...
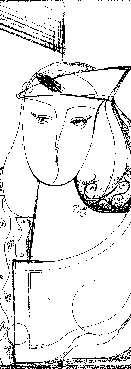
В оформлении
использована графика Василия
Литвинюка. |
|
* * *
Ибо от слов своих
оправдаешься
и от слов своих осудишься.
Евангелие от Матфея.
Гл. 12, ст. 37.
Между мужчиной и любовью
Женщина.
Между мужчиной и женщиной
Мир.
Между мужчиной и миром
Стена.
Антуан Тюдаль. Париж в 2000 году.
Между мужчиной и миром
стена.
Жак Лакан смог ее увидеть.
Эта стена — стена языка.
А что между миром и женщиной?
Океан?
Океан языка, в котором
захлебываешься и тонешь?
Который выбрасывает тебя
волной на неведомый остров,
коему имя — Мужчина?
Так.
Но чаянная тобой земля
как сознание уходит из-под
давно потерявших опору ног,
и бесполезно вцепляться в нее
руками:
в них не останется ничего,
кроме
Пустоты — странной фамилии
или чего-то еще пустее.
И если поэзия — это дар речи в
момент потери сознания,
как говорит Юнна Мориц,
то она же, поэзия, —
это еще дар Бога в момент
потери мира сего.
Она — истинная опора, прочная,
как скала,
в которую можно врасти всей
речью
и обрести, наконец,
то, что преодолевает это
многократное «между»
и пропущенное по законам
грамматики тире.
То, о чем нельзя говорить
всуе,
ибо слово это, произносимое
слишком часто,
в не-сказанности скрывает от
нас свое существо.
То, о чем возвещал любимый
апостол.
То, абсолютность чего
воплотилась совсем недавно —
две тысячи лет назад...
Поэзия — это Его икона.
доска,
на которой
сквозь стертые человеческим
временем письмена
проступает Лик
оправдывающего от слов и
Словом. |
|
|

