Встретиться и поговорить лично
с Всеволодом Анатольевичем
Пепеляевым, старшим сыном
знаменитого генерала времен
гражданской войны в Сибири, меня
подмывало давно. Как-никак,
переписываемся с осени девяносто
второго. Его письма ко мне, пожалуй,
составят целый том. Да и мои ответы и
вопросы к нему — тоже немалый
эпистолярный труд.
Но как встретиться, если до
него добираться надо где-то десять
летных часов, преодолеть шесть
часовых поясов — так далеко от
Якутска до города Гагры, где Всеволод
Анатольевич жил в то время.Потом,
когда начался абхазско-грузинский
конфликт, он вынужден был подумать о
собственной безопасности.
Племянница жены, Галины Николаевны,
вывезла стариков к себе — в г.
Черкесск, столицу Карачаево-Черкесской
республики. Здесь они получили
квартиру в пятиэтажке, построенной
на средства, отпущенные государством
для вынужденных переселенцев.
|

Отец Всеволода
Анатольевича – Пепеляев А.Н.
Снимок 1918 г.
|
|

В.А.Пепеляев. 3-й день ареста. 1947 г.
|
И все-таки случай помог мне
увидеться и поговорить с моим
заочным до того собеседником. Я
получил от службы социальной защиты
льготную путевку в один из
санаториев Сочи. А оттуда, как
говорится, рукой подать до Черкесска.
Если, конечно, сделать пересадку в
Невинномысске, откуда по утрам ходят
нечто вроде электрички (два
прицепных вагона). И я решил
использовать эту возможность,
нарушить на двое суток режим
санаторной жизни.
В один из январских дней 1998 года,
рано утром, поезд подошел к заветной
станции. Сажусь на первый подошедший
автобус. Спрашиваю у пассажиров —
горожан, как доехать до нужной мне
улицы. Точную справку дал водитель.
Немного поплутав, нахожу заветную
пятиэтажку. Поднимаюсь на третий
этаж, сверяю номер квартиры, нажимаю
на кнопку звонка. Должен сказать, что
недели за полторы до поездки я послал
на имя хозяина квартиры почтовую
открытку с извещением о своем
приезде. Как вскоре выяснилось,
Всеволод Анатольевич вследствие
болезни уже давно не спускался к
почтовому ящику, и мой визит к нему
оказался неожиданным.
Дверь мне открыли не сразу —
хозяева еще отдыхали. К тому же,
очередной приступ болезни не давал
возможности Всеволоду Анатольевичу
быстро подняться. Его «половина»
тоже еле передвигается по квартире.
Ей 81 год, ему — 86. Оба — бывшие
харбинцы, из эмигрантских семей.
Говорить сыну генерала трудно. Он
то ложится на кровать, то снова
привстает, переводя дыхание. Однако
верит, что и эту, очередную, вспышку
болезни он скоро переможет и будет
вновь вести переписку со своими,
увеличивающимися в числе,
корреспондентами. Теперь ему многое
открылось в биографии отца. От меня
он получил первые публикации:
дневник генерала периода Якутского
похода 1922—23 гг., опубликованный в
журнале «Сибирь» в девяностом году (причем
эта была самая ранняя весточка).
Затем он получил от меня газетный
разворот с материалом «Дело генерала
Пепеляева» («Земля», Иркутск, 1994 г.) и
другие публикации. Сегодня список
авторов, пишущих о гражданской войне
в Сибири и о судьбе генерала А.Н.Пепеляева,
пополнился: В.Перминов — сын его
хайларского друга, А.Петрушин, Н.Ларьков,
И.Шихатов и другие.
— Грузино-абхазский конфликт, —
говорит Всеволод Анатольевич, — это
пятая война в моей жизни.
Непосредственного участия я не
принимал ни в одной, но в каждой из
них я был жертвой. В первую,
германскую, мне был всего год от роду.
Отца отправили на фронт, где он
неоднократно отличился, получил 8
боевых наград, в том числе и
георгиевское оружие. В гражданскую
войну, семилетним, побывал с матерью
в Иркутской губернской тюрьме. Тогда
наша семья лишилась всего имущества.
Началась эмиграция — тоже не радость.
Отечественная война 1941—45 годов —
трагедия всего русского народа —
сказалась и на эмиграции. В Японскую,
сорок пятого года, разбомбило в
Хайларе мой небольшой магазин
автозапчастей. А ведь я тогда только
начал вставать на ноги. С приходом
частей Советской Армии в Маньчжурию
меня «освободили» от всего... В Гаграх
разворовали имущество: телевизор,
холодильник, стиральную машину, все,
что было нажито за 30 предыдущих лет.
Мне не привыкать все терять. Самое
главное — успеть бы что-то еще
сделать, подвести черту. Вот написал
свои воспоминания о годах репрессий.
Я их вам выслал. Ими заинтересовались
в Екатеринбурге. Может что-то
опубликуют.
Очень досадно, что брат Лавр не
дождался, не узнал о реабилитации
отца: умер в Ташкенте от сердечной
недостаточности в девяносто первом
году. Ему, как и мне, «отмерили» «Особые
совещания», «тройки» 25 лет. А ведь мы
не являлись гражданами СССР. Отбывал
он свой срок в Сибири и на северном
Урале. Я же — в зонах Магаданской
области. Он был выпущен на волю через
одиннадцать, я — почти через девять
лет. Не наступи в стране перемены, и
не видать бы нам свободы еще очень
долго...
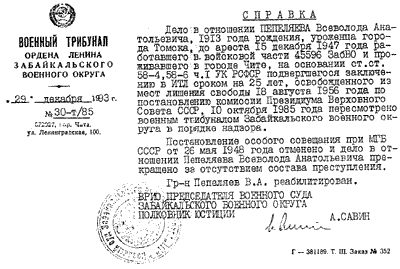 |
|
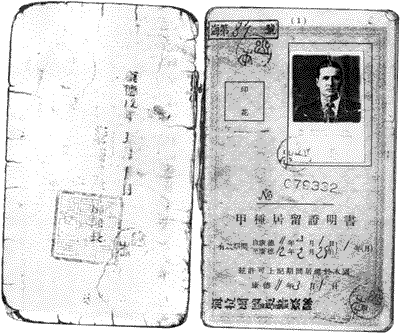
Вид
на жительство – китайский
паспорт Пепеляева В.А.
|
Спрашиваю, как складывалась его
жизнь за рубежом, в Маньчжурии.
— В апреле двадцатого года мы с
мамой добрались до Харбина,
тогдашнего центра Восточно-Китайской
железной дороги. Ее построила Россия,
на свои средства. Начались наши
скитания по комнатам, пока не нашел
нас в том же году отец. Отлично помню,
как у отца побывали два
представителя из Якутской области.
Один из них — П.А.Куликовский,
другого не знаю (С.Попов. — П.К.) Летом
двадцать второго мы проводили отца
во Владивосток. Его все-таки
уговорили возглавить вооруженное
формирование и поехать на север, в
Якутию, где разгорелась гражданская
война. Остались мы — мама, только что
родившийся братик Лавр и мать отца,
Клавдия Георгиевна, почти без
средств существования. Отец наш был
бескорыстным человеком, ни за что не
взял бы чужой копейки. Всяких личных,
корыстных интересов для него не
существовало. Это, кстати, отмечали
все его знакомые и соратники.
Началась наша эмигрантская жизнь.
Мать устроилась на работу в одной
газете корректором. Ведь у нее была
за плечами гимназия. Вскоре перешла в
Управление КВЖД. Кажется, в двадцать
шестом, вышло постановление: русские
могут работать только как китайские
или советские подданные. Мама подала
заявление на советское гражданство.
Через какое-то время пришел ответ —
отказали, и ее уволили со службы.
Тяжело было, пока я не закончил учебу.
В 1931 году я начал работать матросом в
Обществе любителей водного спорта,
на реке Сунгари. На рейде стояли яхты,
катера и прочие суденышки. И вот мы,
несколько матросов, приглядывали за
этим хозяйством, несли вахту. Осенью
нас разогнали. Поступил на службу в
филиал одной американской страховой
конторы инкассатором. Собирал деньги
и взносы. Управляющим был русский,
знания иностранного языка не
требовалось. Кстати, в то время
Харбин считался почти русским
городом. Все китайцы говорили по-русски.
Но я мог объясняться и по-китайски, и
по-английски: недаром проучился 10 лет
в коммерческом училище.
Следующая моя работа — в
американском «Трифкор Банке». Там
было много русских, работников
бывшего Русско-Азиатского банка.
Служил в отделе бухгалтерии до 1935
года, пока банк не «лопнул». Причины
мне были неизвестны, вероятнее всего
— финансовые махинации. Вкладчикам
выдали какой-то процент, а нас всех
уволили. Потом я с одним сослуживцем
и несколькими знакомыми решил «сесть
на землю», заняться сельским
хозяйством. Денег не было, но я был
молодой, двадцати двух лет, здоровый
парень. Меня взяли в компанию. Место
выбрали отличное: от Хайлара,
приблизительно, сто километров к югу.
Там степь переходит в Большой
Хинганский хребет. Рядом — рыбная
река, сосновый лес, целинная земля, а
главное — полная свобода: где хочешь
разводи скот, вообще никаких
ограничений. Но через год я вышел из
этой агрокомпании. Летом тридцать
шестого я получил от отца первое
письмо «с воли». Он просил нас
приехать к нему в Россию. Он даже не
допускал мысли, что мы не приедем.
Я совсем было решил поехать. Но тут
узнал, что все, кто только заходил в
советское консульство, в лучшем
случае брались на учет, а то и просто
арестовывались японцами. Мама
терзалась сомнениями, но здравый
смысл подсказал: ехать нельзя, опасно.
Позже мне стало ясно, что если бы я
вернулся в Россию — один или со всей
нашей семьей — то угодил бы в лагерь.
Много эмигрантов вернулось, и почти
все они пострадали.
Некоторые до сих пор думают, что за
границей, в капстранах — райская
жизнь. Конечно, больше свободы
действий, но лентяи и пьяницы там
никому не нужны. И, вообще, трудно
найти работу даже нормальному
человеку. В Китае никаких пособий по
безработице не выдавали и на помощь
рассчитывать было нельзя. В 1937—1938
годах я не имел постоянной работы. На
одной курортной станции мы с братом
Лавром ловили в реке форель и этим
зарабатывали на пропитание. Зимой
подрабатывал в тайге плотником.
Осенью 36-го один знакомый водитель
порекомендовал меня русскому
предпринимателю. Он имел свой
магазин автозапчастей в нескольких
городах Маньчжурии. Сначала я
работал в гараже, потом в магазине А.А.Шильникова,
в Цицикаре. Через пару лет хозяин
назначил меня своим помощником в
Хайларе. Еще через два года, когда
ухудшилось положение в связи с
войной между Китаем и Японией, он
начал сокращать свою деятельность и
продал мне в рассрочку магазин в
Хайларе.
В августе 1945 года в пяти метрах от
магазина упала советская бомба и
магазин сгорел. В это время я
находился в Харбине и ухаживал за
заболевшим тифом братом. На второй
день после выписки из больницы Лавра
арестовали сотрудники военной
разведки — СМЕРШа. Как бывшего
работника эмигрантского бюро и
выпускника курсов японской военной
миссии. Между тем, никакой
разведывательной деятельностью он
не занимался.
Моя судьба сложилась несколько
иначе. Когда сгорел магазин, я
буквально остался в одной рубашке.
Хорошо, что друзья помогли. Зиму
сорок пятого-шестого я прожил у них.
Вся моя предыдущая работа и
накопления пошли прахом. Вскоре мне
дали совгражданство. Меня взяли на
службу в военную разведку ЗабВО.Я жил
с мамой в Чите. Ничего особо
выдающегося в моей работе не было,
как у Зорге или Штирлица. За кордоном
сопредельного государства
находились два разведчика и радист. А
я был связным. Живя в Чите, я имел
такие же документы,как и у них. Моя
задача заключалась в том, чтобы
забирать материал непосредственно у
них или из “дубка”. Конечно,
определенный риск был. Если бы меня
поймали — конец. Никто бы меня
спасать не стал. От меня бы просто
отказались.
Но как бы безупречно я не работал,
органы безопасности оказались
сильнее военной разведки. В сорок
седьмом, в декабре, меня арестовали. «Особое
совещание» заочно приговорило меня к
двадцатипятилетнему заключению в
лагерях. Помню, при аресте, мой
начальник отдела, майор Кузнецов,
выглядел каким-то смущенным и
беспомощным.
Все без вины арестованные всегда
думают: «Меня-то за что? Все выяснится,
и отпустят». Нет, госбезопасность «напрасно»
не арестовывала, свой «престиж» не
теряла.
Ровно полгода я отсидел в «одиночке».
Тюрьмы, пересылки, лагеря. Прошло
больше полвека, а до сих пор снится
тот кошмар. Проснешься, и не веришь,
что ты свободен. Зато не свободен от
последствий пережитого и трех
инфарктов.
После моего ареста маму арестовали
и выслали в Узбекистан, где она стала
работать в совхозе «Пахта-Арал». В
пятьдесят шестом мы встретились.
Реабилитировали полностью меня в
восемьдесят пятом. Вот такая моя
горькая судьба...
Возвращаясь к разговору о своем
отце, Всеволод Анатольевич говорит:
— Конечно, судьба отца могла бы
быть иной. Он мог бы избежать
пленения в Аяне. Еще накануне похода
его помощник, генерал-майор
Вишневский, советовал зафрахтовать
пароход на случай отступления. Не
внял отец совету. Может быть, не было
для этого средств? Очень даже
вероятно. Спаслись единицы, а он, с
основными силами плохо вооруженной
Дружины, вынужден был сдаться без боя.
Вряд ли дружинники и добровольцы-повстанцы,
захваченные врасплох в Аяне, смогли
бы выиграть сражение. Им надо было бы
наблюдать не только за бухтой, но
подальше от лагеря выставить
дозорные посты. Да что сейчас
говорить об этом...
Вот иногда думаю: до сих пор ведут
поиски военных преступников,
сотрудничавших с немцами. А палачи
собственного народа, повинные в
массовых репрессиях, увешаны
наградами и доживают свой век в
почете. Какая несправедливость!
Семья Пепеляевых, настоящих русских
патриотов, потеряла от рук изуверов
несколько человек. Мой дядя, Виктор
Николаевич, был расстрелян в
Иркутске. Погибли в застенках НКВД
два других брата отца — Михаил и
Аркадий. Младший — Логгин — убит в
бою с минусинскими партизанами.
Кстати, партизанам не доверяли даже
красные командиры, настолько это был
неорганизованный элемент, которому
претила всякая дисциплина и порядок.
Как только подходили регулярные
части, партизан старались распустить
по домам: так было спокойнее.*
Чтобы не слишком утомлять, учитывая
его состояние, я поблагодарил
Всеволода Анатольевича за беседу и
попрощался.
На улицах чистого и уютного города
шла обычная размеренная жизнь.
Горожан больше всего сейчас
беспокоила ценовая политика, а не
далекое прошлое. Цены, как и везде, не
внушали оптимизма, особенно после 17
августа 1998 года. Конечно, они были на
порядок ниже якутских, но все же...
На станции я спросил какого-то
местного: «Сколько жителей в городе?»
Он как-то странно посмотрел на меня и
ответил: «Не считал, дорогой! Да мне
это ни к чему. У меня сейчас о другом
голова болит».
Из воспоминаний бывшего
министра
временного Сибирского правительства
Серебренникова И.И.
А.Н.ПЕПЕЛЯЕВ
В Харбине мне удалось поближе
познакомиться с генералом
Пепеляевым, прославленным героем
гражданской войны в Сибири 1918—19
годов. Генерал несколько раз был у
меня в гостях, и мы с ним подолгу
беседовали, вспоминая недавнее
прошлое и пытаясь ставить прогнозы
будущего России.
А.Н.Пепеляев рассказал мне о том,
как он был эвакуирован в Маньчжурию.
Оказывается, он не совсем
добровольно попал сюда. В разгар
декабрьской катастрофы 1919 года, во
время беспорядочного отступления
армий Колчака, он, будучи где-то в
районе Красноярска, свалился,
схватив сыпной тиф. Почти в
бессознательном состоянии генерал
был взят чехословаками в вагон, и в
таком виде повезли они его на восток.
— На одной из станций, —
рассказывал мне генерал, — рабочие,
прознав о моем присутствии в
чехословацком поезде, окружили его и
стали требовать моей выдачи.
Комендант поезда не растерялся,
вышел к толпе и сказал: «Да, это верно,
мы везли с собою Пепеляева. Он был
болен тифом, на одной из предыдущих
станций ему стало совсем плохо, и мы
оставили его там для помещения в
госпиталь». Толпа поверила этому
заявлению коменданта и постепенно
мирно разошлась.
Антолий Николаевич делился со мною
также воспоминаниями о разных боевых
эпизодах из эпохи гражданской войны
в Сибири и на Урале.
— Мы двигались к Вятке, —
рассказывал он однажды. — К нам
приходили уже многочисленные
депутации от крестьян из района
Вятки, с обещаниями поддержки нашего
похода местными восстаниями против
большевиков. Войска рвались в поход;
все складывалось так, что предвещало
полный успех. И вдруг мы получаем из
Омска приказ об отступлении. Я был
всецело против отступления, для
которого, по моему мнению, не было
решительно никаких оснований, и
стоял за продвижение вперед, к Вятке,
а потом к Вологде, откуда, в случае
необходимости, мы могли бы
перекинуться в Архангельск, на
соединение с союзниками. Однако,
созванное мною военное совещание
высказалось за исполнение омского
приказа об отступлении. Начатый нами
отход привел нас, в конце концов, к
катастрофе.
Не знаю, конечно, мог ли по
стратегической обстановке
осуществиться в свое время этот
предполагавшийся Пепеляевым поход
на Вологду и Архангельск, но, если бы
его план был принят и осуществлен, мы
имели бы, в истории минувшей
гражданской войны, удивительный марш
сибирских войск от Маньчжурии до вод
Белого моря.
В Харбине за генералом Пепеляевым
начали усиленно ухаживать местные
большевики, которые старались
перетянуть его в советский стан. При
этом генералу обещалось какое-то
видное назначение в пределах
русского Дальнего Востока. Как я знаю
об этом от самого А.Н.Пепеляева,
большевики добились ряда свиданий с
ним, угощали его обедами и ужинами и
старательно обрабатывали в свою
пользу, искусно эксплуатируя
сибирско-областнические настроения
молодого генерала, не очень
искушенного в то время в вопросах
политики.
Нужно сказать, что искушения для
ген. Пепеляева были слишком велики, и
его друзьям стоило не малого труда
удержать его от большевистских
соблазнов.
Материальное положение А.Н.Пепеляева
в то время было незавидное: как он сам,
так и многие его близкие друзья и
соратники по былым боям испытывали в
Харбине большую нужду. Отмечаю, как
не совсем обычный факт, что генерал и
несколько офицеров его бывшей армии
стали существовать извозчичьим
промыслом. Не знаю, показывался ли
сам Пепеляев на улицах Харбина в
качестве извозчика, но друзей его
часто можно было видеть за этим
занятием. Правда, лошади и экипаж
были куплены в собственность
компанией извозчиков-офицеров, и это
до некоторой степени смягчало для
них тяжесть их настоящего положения**.
И.И.Серебренников. Мои
воспоминания.
т. 2, гор. Тяньцзин, 1940 г., стр. 33—34.
* Об этом, например, свидетельствует
постановление Реввоенсовета 5-й
Красной Армии от 15 декабря 1919 года. В 6
пункте этого постановления
говорилось: “...в случае отказа
партизанских частей от подчинения
порядку и проявлении разнузданности,
своеволия, при грабеже (!) местного
населения, при попытке поднять смуту,
указанные части должны быть
подвергнуты беспощадной каре”.
На разоружение и расправу с
подобными отводилось, по возможности,
не более 24 часов. При этом “командный
состав и кулацкие верхи должны быть
подвергнуты самой строгой каре”. Ну,
а в методах наказания “своеволия”
можно было не сомневаться,
достаточно вспомнить Кронштадт
марта 1921 года, крестьянские волнения
в Тамбовской губернии, Западной
Сибири и т.д. (Примеч. П.Конкина).
** А.Н.Пепеляев организовал в
Харбине не только артель извозчиков,
но и плотников и грузчиков. Был
создан «Воинский союз» из бывших
соратников по войне в Сибири,
председателем которого назначили
генерал-майора Е.К.Вишневского,
командира 2-го корпуса 1-й Сибирской
армии, которой в 1919 г. командовал А.Н.Пепеляев.
(Примеч. П.Конкина).

